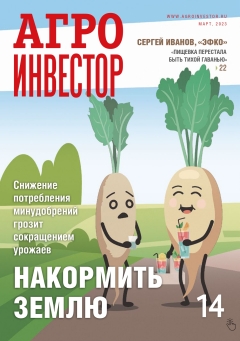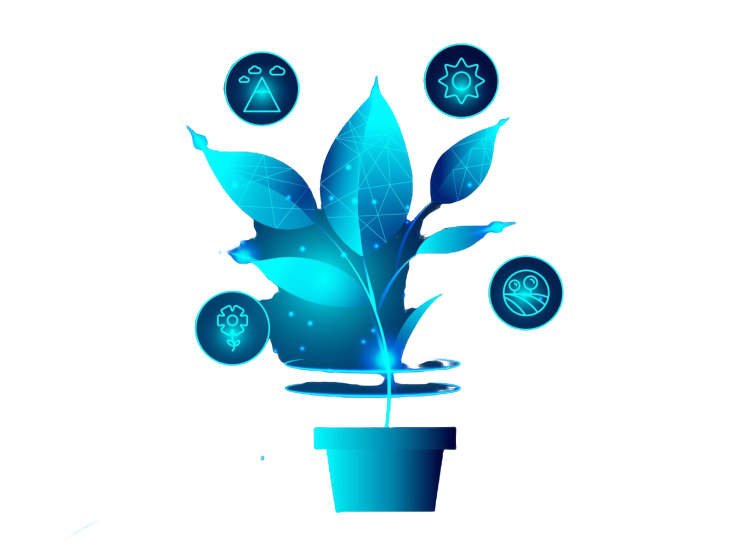Журнал «Агротехника и технологии»
Отечественное молочное животноводство постепенно переходит на промышленные, крупнотоварные рельсы, и ключевыми инструментами его развития уже сегодня становятся геномная селекция и геномная оценка крупного рогатого скота. Происходит это на фоне значительного сокращения молочного поголовья: неэффективные предприятия уходят с рынка, и в целом отрасль сталкивается с рядом вызовов. Журнал «Агротехника и технологии» приводит планы Минсельхоза по развитию геномной селекции в России и мнения экспертов отрасли по этому вопросу, высказанные на IV Ежегодном дне геномной селекции в животноводстве KSIDAY — 2025
Сегодня молочная отрасль переживает серьёзный этап трансформации, сталкиваясь с целым рядом вызовов, отмечает Артём Белов, генеральный директор Национального союза производителей молока. Рынок, по словам эксперта, развивается динамично, растёт внутреннее потребление, как и экспортные возможности. Однако с точки зрения обеспечения роста в сырьевом секторе на рынке образовался очевидный дисбаланс. «"Низко висящие фрукты", имевшиеся в российском молочном животноводстве, во многом уже сорваны. В принципе, в товарных хозяйствах мы имеем хороший уровень продуктивности, но потенциал до конца не исчерпан, и геномная селекция — тот самый инструмент, который позволит индустрии устойчиво развиваться дальше. Особенно на фоне значительного снижения инвестиционной активности в отрасли и выбывания неэффективных хозяйств нам необходим резерв ресурсов. Генетика позволит решать стоящие перед индустрией стратегические задачи», — говорит Артём Белов.
При этом те задачи, которые перед отраслью на ближайшие годы ставит Минсельхоз (увеличение экспорта и рост производства на 25% через 6 лет), действительно амбициозные. Выполнить их возможно, только качественно изменив подход к молочному животноводству.
Кто и как выигрывает от внедрения в работу геномной селекции, задаётся вопросом Юрий Пеков, операционный директор компании KSITEST. Во-первых, отвечает эксперт, в целом страна, государство, поскольку геномная селекция улучшает независимость продовольственной безопасности. Снижается импорт семени и животных, сохраняются местные породы. К тому же, при внедрении геномной селекции появляется возможность выводить собственную генетику — для самообеспечения и на экспорт. Во-вторых, выигрывают племенные станции: выводя быков под собственные условия каждого региона и ускоряя их селекцию, они способствуют росту конкурентоспособности российского семени. В-третьих, безусловно, выигрывают российские производители молока, которые могут улучшать своё стадо, повышая удойность и другие показатели. В частности, таким образом можно повысить содержание белка и жира в молоке, что очень важно для переработки, снизить нагрузку на специалистов и упростить процессы, а также снизить себестоимость производства молока и повысить рентабельность.
Шесть лет назад в России только две организации занимались геномной селекцией, отмечает Дарья Яковишина, генеральный директор KSITEST. Сейчас картина совершенно другая. «В нашей базе проанализировано два миллиона животных. На данный момент в базе 70000 генотипов — и около 13 млн контрольных доек. То, что мы делаем, — во много специальная, инновационная работа», — говорит эксперт. Действительно, работа идёт серьёзная: в компании организована зарегистрированная в Минсельхозе лаборатория молекулярно-генетической экспертизы, единственный в России и СНГ Центр интерпретации ДНК-данных, аккредитованный ICAR. «Генотипировать первых животных мы начали в 2019 году, ежегодно добавляя к базе количество оценок: оценки продуктивности, долголетия, первый экономический индекс, экстерьер, фертильность… И если сначала у нас было 5 оценок, затем 7, то на текущий момент у нас 44 оценки. Для примера: в самых развитых мировых системах геномной оценки их сегодня около 50 единиц. Но больше всего нас волнует не количество оценок и не индекс, а то, приносит ли это реальные результаты», — поясняет Дарья Яковишина.
В чём больше всего упрекают российскую геномную селекцию? В том, что в нашей стране база всё ещё недостаточно велика. Для сравнения, в американской базе числятся несколько миллионов животных, а в России гораздо меньше. Предприятия присоединяются к программе медленно, плохо понимая свою выгоду от работы с геномами, и в том числе по этой причине в сегодняшних базах племенных ресурсов информация нередко дублируется и фальсифицируется, отмечают отраслевые эксперты.
Путь к живым деньгам
Советник министра сельского хозяйства России Ольга Абрамова уверена: развитие геномной селекции снижает расходы на содержание низкоэффективных животных, позволяет видеть тренды в развитии генетического потенциала, производить быков российского происхождения в трёх поколениях и выходить на внешние рынки. К 2030 году в рамках внедрения инструментов геномной селекции Минсельхоз планирует разработать Национальный индекс племенной ценности для всех видов животных — инструмент уже протестировали в Удмуртии с положительным результатом. Кроме того, к тому же 2030 году разрабатывается геномный прогноз — то есть, благодаря понятной системе оценки животных участники рынка смогут прогнозировать надои и качество молока. Минсельхоз рассчитывает, что продуктивность племенных животных с сегодняшних показателей 9 500 кг на корову вырастет до показателя 11 500 кг, а содержание белка и жира увеличится на 0,2%.
Как отметила Ольга Абрамова, первостепенная задача сегодня — в рамках ФГИАС ПР сформировать единую базу данных. Над ней Минсельхоз работает уже три года, и сегодня систему апробируют в четырёх российских регионах: в Татарстане, Удмуртии, Алтайском крае и Архангельской области. Во второй половине 2025 года для тестирования база станет доступной хозяйствам других областей, а с 1 марта следующего года система войдёт в промышленную эксплуатацию и станет обязательной для всех. Ольга Абрамова объясняет: «Для нас ФГИАС ПР — это возможность знать о статусе развития племенного животноводства в стране по регионам, хозяйствам, породам, не по истечении одного отчётного года, а в оперативном режиме, поскольку в рамках ФГИАС ПР планируется ежеквартальный сбор данных».

Основой базы данных станут три фактора: родословные, генетически детерминированные заболевания и хозяйственно полезные признаки. В рамках развития системы Минсельхоз, возможно, внедрит автоматизированный сбор некоторых данных, в частности, бонитировок.
Ещё одна база данных — единый реестр быков-производителей. Сегодня пользователи генетического материала конкретных быков самостоятельно формируют данные и заносят их в систему. В 2025 году Минсельхоз планирует перейти от ручного ввода информации к единому реестру быков России — чтобы упорядочить данные родословных. Сегодня в системе много ошибочных и двойных данных: один и тот же бык в системе может фигурировать под разными характеристиками, поясняет Ольга Абрамова.
В 2025 году министерство работает над изменением господдержки; сегодня в приоритете — развитие геномной селекции. Сейчас, отмечает советник Оксаны Лут, многим руководителям племенных хозяйств и сельхозорганизаций, к сожалению, не очевидна практическая польза геномной селекции. Эту проблему можно решить, в первую очередь, развитием аграрного образования и просвещения в сельскохозяйственной среде.
Изменения, которые коснутся в целом племенного животноводства, в ближайшем будущем ожидаются и в нормативной базе. Так, с 1 марта 2026 года в законодательстве вводится формулировка «племенное животное». Понятие будет включать продуктивность, продолжительность жизни и другие показатели.
Минсельхоз, сообщает Ольга Абрамова, предоставит хозяйствам субсидии на генотипирование молодняка КРС (бычков и тёлок в возрасте до 10 месяцев), получив взамен отличную возможность наполнить новую систему ФГИАС ПР качественной информацией — в неё будут заносить результаты генотипирования. «Мы считаем справедливым, если государство будет компенсировать часть расходов, связанных с геномным тестированием, — уточняет она. — В частности, 70% от стоимости геномного теста и прогноза племенной ценности». В 2025 году, согласно планам Минсельхоза, по всей стране будет собрано около 80 тысяч генотипов. Однако в дальнейшем в России предполагается ежегодно генотипировать 200-250 тысяч голов КРС. В будущем субсидии на генотипирование могут распространиться не только на крупный рогатый скот, но и на другие виды сельхозживотных. Важно, отметила Ольга Абрамова, чтобы в формировании задач для реализации стратегии геномной селекции нашего государства принимали участие отраслевые сообщества России — они играют огромную роль в развитии животноводства.
Механизм внедрения господдержки на генотипирование предприятий
Как же сформировалась первоначальная цифра в 80 тысяч генотипов, которые должны собрать в 2025 году? По словам Ольги Абрамовой, Минсельхоз, планируя реализовать внедрение субсидий на генотипирование предприятий, попросил регионы обозначить фактические масштабы запросов на предложенную меру. Готовы ли в принципе компании проводить геномные исследования? В ответ регионы направили в аграрное ведомство огромную цифру: 600 тысяч голов. Однако, что готовы исследовать в таких объёмах: достоверность происхождения или геномные заболевания? Минсельхозу необходимы и те, и другие сведения. «Мы пошли с другой стороны: посмотрели статистику генотипирования в Российской Федерации за последние 2-3 года, — объясняет Абрамова. — Конечно, в большей степени сейчас генотипируют маточный крупный рогатый скот. Но всё-таки среди маточного поголовья генотипируется в среднем около 50 тысяч голов молодняка. Поэтому, на пробу, мы и взяли условно промежуточную цифру — 80 тысяч голов».
Достоверность данных в племенной базе
«Объединить все региональные базы данных в единую — наша мечта с 2020 года, — делится Ольга Абрамова. — От этого выигрывают все. Однако собственниками информации являются сельхозорганизации, и собранные данные находятся в руках коммерческих компаний. Вот почему объединить имеющиеся базы и интегрировать их во ФГИАС ПР непросто, но мы сделаем всё возможное». Вместе с тем, ФГИАС ПР подразумевает самостоятельный ввод данных со стороны хозяйств. Сбор и оценку качества данных Минсельхоз предполагает организовать через институты, в частности, в области молочного животноводства. «Касательно, например, экстерьерной оценки: в каждом регионе должны быть свои "экстерьерщики", которые и займутся указанной работой. Прецеденты по регионам уже есть. На 2025-2026 год во ФГИАС ПР предполагается возможность отгрузки данных из лабораторий и подтверждения данных через ассоциации по породам. Такой подход, на наш взгляд, ведёт ко всё большей прозрачности информации. В любом случае, мы должны сначала пройти первую ступень — обучающую, просветительскую работу с руководителями предприятий, чтобы они сами себе ответили на вопрос "почему мне нельзя фальсифицировать данные, которые я ввожу в систему"», — поясняет Абрамова.
Дарья Яковишина согласна с этим тезисом: «У нас есть график данных по годам, где отражено большое количество дублей, неточностей. И уже сейчас мы видим, как наши клиенты начинают пользоваться полученной информацией и постепенно понимают, зачем в принципе нужны эти исследования. Приходит осознание — и в базах становится гораздо меньше дублей и других проблем. Мы верим, что нужно не просто заставлять людей обращаться к геномным исследованиям, но и показывать им практическую пользу».
Каким образом предприятия смогут претендовать на заявленную меру поддержки? Представитель Минсельхоза уточняет: всё зависит от заявки органа исполнительной власти. Будет формироваться заявочная кампания, в рамках которой региональные министерства сельского хозяйства направят в адрес федерального аграрного ведомства заявки на проведение генотипирования. К заявкам они приложат списки предприятий, готовых провести генетические исследования. «2025 год для нас в этом смысле очень важен, — говорит Ольга Абрамова. — Во-первых, мы должны определить реальный интерес со стороны предприятий. Во-вторых, понять наши ресурсы, лабораторные мощности. В 2026 и 2027 году, по нашему мнению, геномное тестирование следует продолжать. Однако такая мера поддержки постоянной стать не должна — нужно, чтобы за короткий промежуток времени фермеры приняли для себя решение, будут ли они заниматься этим направлением. Задачи затащить всех насильно в программу нет. Нам не нужны красивые цифры — важен осознанный подход», — заключает Абрамова.
Стратегия геномной селекции в производстве молока
С точки зрения долгосрочной перспективы мы живём в ситуации трансформации рынка, говорит генеральный директор Национального союза производителей молока Артём Белов. Сложилась уникальная ситуация: в стране достаточно высокими темпами растёт потребление и экспорт молока и молочных продуктов, но в то же время, вызов, с которым сталкивается отрасль, — это существенное замедление темпов прироста производства молока. «Если в период с 2014 по 2022 год среднегодовые темпы роста производства товарного молока составляли около 3%, в 2023 году — около 6,5%, то в 2024 динамика снизилась примерно до 2%, и наш прогноз на текущий год таков: по молоку мы впервые за долгое время не прирастём. Причин этому несколько. Во-первых, уход с рынка неэффективных хозяйств, во-вторых, ветеринарные риски, с которыми столкнулся целый ряд производителей. Третья причина — серьёзное ужесточение кредитно-денежной политики, значительно ограничившей количество инвестиций в отрасль. Если в 2023 году было введено около 80 тысяч скотомест в новых комплексах, то в 2024 году — около 50 тысяч скотомест. Прогноз на 2025 год ещё более консервативный. И, конечно, другая немаловажная причина — ощутимая нехватка рабочей силы», — поясняет Артём Белов.
Перечисленные вызовы, по словам эксперта, достаточно серьёзные, и одним из ключевых является вопрос о наращивании объёмов производства для обеспечения внутреннего спроса и развития экспорта. Один из факторов, способствующих замедлению инвестиционной активности и объёмов производства, — безусловно, ситуация с поголовьем. «Если сравнивать, что происходило с поголовьем в 2015—2022 годах, то поголовье за этот, достаточно долгий, промежуток времени снизилось примерно на 400 тысяч голов. А за период 2023—2024 года поголовье сократилось на 500 тысяч голов», — приводит данные Белов.
Тем не менее, сообщает он, сегодня молочные хозяйства страны находятся на весьма неплохом уровне продуктивности. «По нашим оценкам, средняя продуктивность в 2024 году за 305 дней лактации составила более 8 тонн на голову. В племенных сельхозорганизациях за тот же период времени получали более 9 тонн на голову. Прирост, по сравнению со средним по индустрии, с учётом личных подсобных хозяйств, по сельхозорганизациям составил около 33%, а по племенным сельхозорганизациям — ещё 17%. То есть уровень продуктивности сегодня достаточно высокий. Если сравнивать с другими странами, то Россия занимает очень достойную позицию: среди стран, серьёзно занимающихся молочным животноводством, по уровню продуктивности у нас 7 место. При этом, уровень продуктивности в России уже выше, чем в среднем по Европейскому союзу».
Но, как всегда, есть нюансы. В частности, отмечает Артём Белов, в показателе продуктивности считается только валовое производство, без учёта показателей сухого вещества. «Известно, что российское молоко белкопрофицитное и жиродефицитное. То есть жира нам не хватает, а по белку мы профицитны. И если сравнивать, например, с США, где породный состав КРС и система животноводства схожи с нашими (крупнотоварное производство), то уровень содержания жира в сухом веществе в сыром молоке в России довольно серьёзно отстаёт. У нас содержание жира за 14 лет выросло примерно на 3%, а в США — практически на 10%. Одна из причин, почему такое стало возможным, — развитие геномных оценки и селекции и использование индексов племенной ценности. Если мы посмотрим на международную практику, то увидим: кроме общих федеральных индексов в США есть более детальные индексы, ориентированные на производство конкретных финальных продуктов, то есть, животные отбираются, исходя из целей, для которых будет использоваться получаемое молоко. Есть индексы для производства "флюентмилк" (жидких молочных продуктов), есть для производства сыров, для производства сухих молочных продуктов. Немножко разные индексы, немножко разные животные — значит, разный отбор и разные условия по содержанию жира и белка в молоке. Это очень важно, в том числе, для понимания: для чего мы в принципе занимаемся геномной оценкой. В основе всего лежит экономика, и экономика не только ферм, но и по вертикали "ферма — переработка — финальный продукт"».
Продуктивное долголетие коров
Если говорить о племенном поголовье, говорит генеральный директор Национального союза производителей молока Артём Белов, то за последние 14 лет в стране динамика очень хорошая, и уровень продуктивности животных серьёзно вырос. Если ещё 10 лет назад животные с продуктивностью 10 тонн на голову встречались редко, то сегодня на таких животных приходится 38% поголовья. Более 80% поголовья — это животные с продуктивностью от 7 тонн. Среднее количество лактаций для них — около трёх.
Индексы племенной ценности, в первую очередь, говорят об экономике, и именно в контексте экономики ферм очень важно такое устоявшееся понятие, как продуктивное долголетие коров — исходя из стоимости нетелей, которых используют на производственных объектах. «Если сравнивать с развитыми странами, то в Северной Америке среднее количество лактаций — меньше двух (такое положение дел связано с хорошим развитием рынка скота, и нетель там стоит относительно недорого). В России ситуация другая. Рынок нетелей последние годы развивается, но для устойчивого развития сектора его уровень всё ещё недостаточен. Поэтому стоят нетели сравнительно дорого, и с точки зрения экономики ферм, окупаемости продуктивное долголетие коров — один из ключевых факторов, который нужно закладывать в модели при формировании индексов племенной ценности».
Таким образом, сегодня молочная отрасль нашей страны стоит перед очень важным выбором: как будет развиваться индустрия дальше? По традиционным принципам или с привлечением последних генетических достижений? Решение должны принять прежде всего сами предприятия. На фоне резкого сокращения молочного поголовья в стране может возникнуть большой дефицит молока и молочной продукции, и здесь выход виден только со стороны значительного увеличения продуктивности и продуктивного долголетия молочного скота. Разумное применение генетики и различных геномных оценок видится успешным решением поставленных задач. Перейти же на такие технологии участникам отрасли способны помочь новые субсидии от Минсельхоза.